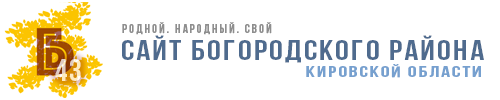Творчество Эйснер Татьяны Алексеевны
Творчество Эйснер Татьяны Алексеевны
Сны о детстве
Мне часто снится одно и то же: родное село, июнь, вечер, темно-синий воздух, опустевшая улица, прохладная, припорошенная рыжеватой пылью, земля. И я под черным небом - посреди улицы, посреди села, посреди надвигающейся ночи...
Сон первый: «Для меня нет тебя прекрасней...»
Село на горе - как остров, как корабль, плывущий по волнам густеющего ночного тумана. Там внизу, под белесой поволокой – деревеньки с избами в один ряд, с обсаженными черемухами одворицами, с остатками кривобоких прошлогодних стогов. Ни огонька – деревенские ложатся спать с курами. Черным просвечивают через туман ельники, отливает тусклым оловом река. Пахнет сыростью, тополями. Их три посреди села – старых, дуплистых, посаженных кем-то когда-то на тогдашней околице. Село разрослось с годами, и тополя оказались на границе между новой и старой его частями.
Просторные, крепкие дома выстроились в несколько улиц, образовали «тот конец», в отличие от «нашего» – с вековыми покосившимися строениями под замшело-зелеными тесовыми крышами, с поросшими кудрявым спорышем двориками, с церковью и церковными постройками, приспособленными под школу. В нашем конце села все старое – и дома, и сады, засаженные коряжистыми от времени акациями, яблонями-дичками и кустами сирени, и воздух сам старый-старый. Церковь с высокими, заколоченными окнами, сложенная из нестандартного кирпича на исходе XIX века.
Бабушка рассказывала, что кирпичи для церкви делали прямо здесь – за речкой остались три огомные ямы, из которых брали глину. Весной в этих ямах-бочажинах долго лежал снег, летом стояла холодная темная вода, а осенью по густой водяной черноте плавали рыжие осиновые листья. В послереволюционные годы пытались было разобрать церковь – столько дармового стройматериала зря пропадает – да не смогли, старорежимная кладка была на совесть сделана – взять можно было только взрывчаткой. Так и стоит церковь с обгрызенными углами и покореженными оконными решетками.
Одно время был в ней колхозный ток – в широкие двустворчатые ворота заезжали грузовики, под высокими сводами грохотали веялки, бабы с завязанными платками лицами подгребали к ним зерно. Наточенные и отполированные житом лопаты в косых, клубящихся пылью, струях солнечного света сверкали, словно облитые ртутью. Мы, ребятня, любили лежать в горячем, только что привезенном с поля, зерне, закапываться в него по уши и смотреть вверх – на лики святых, задумчиво глядящих на нас сквозь гроздья пыли, облепившей фрески, на распростертые над нами господни руки, на пухленьких ангелочков.
Роспись в храме делали братья Васнецовы: родина их - село Рябово – от села нашего километров 60-70. От трудов их благородных мало что осталось – глупость человеческая не знает границ. Мальчишки соревновались, кому удасться отбить обломком кирпича кусок штукатурки побольше. Относительно целые росписи остались только на недосягаемой высоте, под самым куполом.
***
Темно впереди, темно позади. Небо без звезд. Тополиные листья тихо-тихо шепчут о чем-то.
Дупло среднего тополя такое большое, что в нем можно сидеть с ногами и смотреть, как снуют вверх и вниз по стволу хлопотливые безобидные клопы-солдатики в черно-красных мундирах. На дне его – посеревший весенний тополиный пух и конфетные бумажки (сидишь там, ешь конфеты с черным хлебом и поглядываешь на всех свысока). «До трех тополей», - говорили мы, клянча у более счастливых сверстников велосипед, и с восторгом крутили педали. До трех тополей провожали друг друга девчоночьи стайки, разбегающиеся с вечернего сеанса кино. У трех тополей, у остановки колхозного автобуса (сначала это был грузовик с брезентовым верхом, громко называемый «грузотакси», управляемый дядей Ваней - самым неторопливым из всех известных в мире шоферов), встречались и расставались люди.
***
Темнота огромной подушкой закрывает пространство. На ощупь она – как легчайший пух. Теплый ветер гонит ее вдоль улицы, вдоль черных домов и кривых штакетников – за мост, за реку, за вытоптанную коровами поскотину – в поля... Июньские пахучие ночи, холодные, белые слои тумана, трава в росе... Бабушка не знала ничего, а может быть, догадывалась, да виду не подавала. А я, чуть засопит старушка на ржавой койке в углу за печкой, тихонечко-тихонечко вылезала из-под одеяла, на цыпочках кралась через горницу на кухню, осторожно открывала тяжелую, собранную из толстых досок, дверь (предварительно смазанную утащенным у мальчишек солидолом, чтоб не скрипнула), и через окно сырого чуланчика выскальзывала в огород. Птичкой - через забор и бегом на опушку леса, который рос сразу за домами. Там, на высоком косогоре, пристроенные на двух рослых соснах, уже качаются качели, визжат девчонки... Жгли костры, пекли картошку... Часа в два ночи пьяная от качельных полетов, так же крадучись, возвращалась домой. Вечером, на крылечке сельского клуба решали, куда едем (лето – пора деревенских праздников, а деревень в округе - не один десяток). Молодые парни работали в колхозе кто - шофером, кто - трактористом, транспортом пользовались бессовестным образом – на всю ночь укатывали с полным кузовом девчонок куда-нибудь километров за 15 на гулянку.
...Это был самый прекрасный сон (я сейчас понимаю!) в моей жизни... Длинная деревенская улица, кривая тропка, мокрая от росы, открытые створки окон, из которых бабульки в нарядных платочках подавали нам стограммовые стопочки с мутной брагой, в которой плавали набрякшие ягоды смородины. Кусты сирени, с блестящими, горько пахнущими листьями. Под фонарем, висящим на столбе, маленькая, утоптанная площадка. Несколько танцующих пар. В сторонке сидит парень из дальнего села – русоволосый крепыш среднего роста, спокойный, улыбчивый. Крутит в загорелых ладонях ветку сирени, покусывает стебелек. Целый вечер смотрю, не могу оторваться – никогда такого не было со мной – ловлю каждое движение, каждое слово... Умоляю мысленно: «Пригласи...».
Наконец, не выдерживаю, подхожу сама. Он улыбается и ведет меня в круг. На подоконнике открытого окна проигрыватель крутит пластинку: Для меня нет тебя прекрасней...». Я чувствую ладонями под прохладой рубашки перелив горячих мускулов, запах чистого тела кружит голову. Как легко и бережно он ведет, как надежны и сильны руки! Как хочется уткнуться лицом в его плечо и слушать, как стучит в груди сердце... Кто может быть счастливее меня, меня, летящей в плавном танце куда-то к звездам? И кто может быть несчастнее меня – заканчивается музыка, его рука соскальзывает по хрусткому шелку платья... Все... Это все...
Но, не дождавшись последних аккордов, чья-то добрая душа передвигает головку звукоснимателя на начало пластинки – и я снова на седьмом небе. Как мало мне надо! Шесть минут счастья... «Как виденье, неуловимо...». Ребята свистнули – пора домой. Разомкнулись руки, осталась в памяти только горечь сирени...
Сон второй: дом
Я под черным небом, в теплой ночи. Впереди - неизвестность. Позади – родной дом.
Самое первое отчетливое воспоминание детства – желтый квадрат солнечного света на чисто вымытом полу кухни. Я стою и ногами в шерстяных, бабушкой вязаных, носочках, пятками пытаюсь встать на выпуклые сучки. Пятки соскальзывают, разъезжаются по крашеному, теплому от солнца, полу.
Сегодня мне исполнилось пять лет. Мне впервые в жизни принесли подарки. Ольга, двоюродная сестра, сунула мне резиновую обезьянку с длинным хвостом в форме крючка и красным мячиком в лапках. За крючок хвоста ее было так удобно вешать куда-нибудь. (И где только эта обезьянка потом не висела – на перекладинах стула, спинке кровати, сучках деревьев.) Такого сюрприза я не ожидала – игрушка резко пискнула в моих жадных ручонках. Все засмеялись. Танька, старшая Ольгина сестра, вякнула противно:
- Татьяна-обезъяна! Я не обиделась – завидует. Потом долго сидела в своем уголочке – устраивала поудобнее нового члена своей игрушечной семьи. Мой день рождения – первое значительное событие, происшедшее в стенах новой избы. «Тане сровнялось пять, когда мы переехали». Старого дома я не помню, запомнились только черные стены без крыши, которые были видны из окон нового, да кухонные, вытертые многолетней ходьбой, половицы с выпуклыми сучками, которые лежали раньше в прежней горнице.
Дом рос и взрослел вместе со мной. У меня прибавлялись года, у дома – пристройки. Я училась, вроде бы умнела, - кладовки, подполье и чердак обрастали утварью и скарбом. Мы ладили: я лазила по торчащим зауголкам, пытаясь заглянуть в приколоченные под крышей скворечники и посчитать желторотых птенцов, на серых боках бревен гвоздиком царапала свои инициалы, взахлеб читала книжки на прожаренной солнцем крыше и слушала рокот дождей на пыльном чердаке. Дом визжал дверными петлями, трещал бревнами в морозы, поскрипывал половицами.
Старая, дореволюционная еще мебель – деревенский антиквариат – тоже имела (каждый предмет) свой характер. Огромный кухонный стол на черных резных бегемочьих ножках был непоколебимо самоуверен, шкаф-горка – элегантен, а бабушкин комод с вечно заедающими ящиками – скуп и заносчив. В ту, первую зиму в новом доме, мы жили без электричества. Маленькая колхозная гидроэлектростанция, построенная на сливе пруда, сгорела. Мать проверяла тетради, брат делал уроки, а бабушка читала газеты, которых выписывала множество, при свете керосиновой лампы. Я смотрела на них сверху, с огромной печки, сбитой из целого куска красной глины, которой наша область славится чуть ли не на всю Россию. Про глину эту, из которой и посуду, и знаменитую дымковскую игрушку лепят, легенды ходят. В нашей семье – своя. Не легенда даже, а быль. Мать моя – учительница русского языка и литературы. Школа – напротив дома, два шага, только дорогу перейти. Зимой и летом проблем не было, а вот весной нам с братом приходилось дежурить, встречать мать с работы. Она у нас росточком всего ничего, толстенькая, ножки коротенькие, как начинала через раскисшую весеннюю дорогу переходить, так и застревала – засасывала ее глина намертво. Кричит оттуда, помогайте, мол. Приходилось бежать с лопатами. Мы-то маленькие еще, легкие. Сначала забирали кипу тетрадок с сочинениями, домашними заданиями, потом мать из глины выдергивали, потом сапоги выкапывали. Дом с приусадебными пристройками, огородом и одичалым, заросшим малиной и крапивой, участком – это целое королевство, в котором хозяйничало только мое воображение. Там по узеньким тропинкам ходили мои невидимые подданные, на заборе, обозревая владения сопредельных королей, скучали дозорные – войны, к счастью, случались редко.
За забором жила семья школьной уборщицы Нюры: муж - беспробудный пьяница и четверо детей (хотя мой брат потом говорил, что детей было шестеро, я запомнила четверых) – дочь и трое парней, гораздых на выдумки, но покладистых и дружелюбных. Даже меня, малолетнюю, брали играть с собой в войну. Вручали мне палку-ружье, с которым я восторженно маршировала и радостно падала в пыльный спорыш, «сраженная» чьим-нибудь метким выстрелом. Домой приходила чумазая, в пятнах крови на лысом черепе (на лето меня брили, как мальчишку) нет, не от ран боевых – от раздавленных комаров. Потом мы залезали к ним на чердак, где неугомонные братья слушали собственноручно собранный радиоприемник и ставили какие-то непонятные мне физические опыты. Чердак был завален невообразимым хламом – тряпьем, железяками, драными журналами. Лучи света крутили пылинки, от крыши сочилось летнее тепло, шумели под мягким ветром тополя...
Сон третий: бабушка
- Та-э-нь! – кричит бабушка с кухни, - глянь-ко, кто там вверх-то (вверх по улице) пошел...
Я подскакиваю с кушетки и гляжу в окно, заставленное множеством горшков с цветами. Говорю бабушке, кто идет и какой (пьяный или нет). Бабушка комментирует полученную от меня информацию, причем комментарии ее всегда носили нелестный характер:
- Э-коть, нализался уже! И когда, паразит, успел?
Или:
- Надо же, трезвый еще, небось ищет, где нажраться. Запри-ко дверь, кабы не приперся...
Подскакивать и смотреть в окно приходилось часто – народу на улице всегда хватало.
Как я ненавидела эти цветы на подоконниках! Каждую субботу растения со всех семи окон нужно было составлять в центр комнаты и опрыскивать (набираешь в рот воду и - фр-р-р), а крупные, глянцевые листья здоровенного, под потолок, фикуса протирать тряпочкой. Мыть подоконники и разносить цветочки на место. А потом драить полы... А день кончается. Не погулять... До сих пор в моем доме нет цветов.
Бабушка моя, Аполлинария Николаевна, и так безмерно уважаемая в округе за счет эксклюзивной комнатной растительности, постоянно повышала свой авторитет. Поводы, правда, для этого большей частью были печальные – похороны.
...На выставленном на середину кухни круглом «венском» стуле сидит женщина - озабоченная, усталая. В который, наверное, раз рассказывает:
- Дак, видать, как шел, так и упал, справа все отнялося – и рука, и нога, обмочился. Манька-соседка, с фермы шла, дак увидела – лежит посередь дороги, мычит че-то. Домой-от принесли, дак пока я за врачихой-то сбегала, а он уже и остывать начал. Дак ить молодой ишшо, в могуте... С 35-го году...
Бабушка, сложив на обтянутых ситцем платья коленях переплетенные узловатые пальцы, кивает головой:
- Дак пил-от как!..
Визитерша охотно соглашается:
- Пил-от пил, дак кто не пьет-то? Да ить и мужик – как не пить-то?..
И после неловкого молчания добавляет неуверенно:
- Дак, Миколавна, дашь ле мне от садов-то твоих («сады» - так называли у нас в деревне комнатные растения!) каких цветочков в гроб-от ему положить? Уж больно баски оне у тя, сады-то...
Купившись на такую неловкую лесть, бабушка подзывает меня и я, по ее указанию, срезаю пушистые веточки аспарагусов и, в зависимости от степени уважения бабушки к умершему, что-нибудь от других цветов. Самым достойным покойникам доставались мохнатые разноцветные колокольчики глициний и розовые соцветия гортензий.
Баба заворачивает цветы в газету, прижимает сверток к затертой до блеска поле телогрейки и торопливо прощается:
- Дай те Бог здоровья, Миколавна!..
***
К бабушке приходили и с другими просьбами:
- Похлопочи, Полинарья Миколавна...
Бабушка доставала тетрадку с листами в линеечку, а чернильница и ручка с перышком (с таким шариком на конце – линии получались толстые – я любила другие перья – «звездочки», которые писали тонко) всегда были у нее на столе, и писала заявления то в суд, то в правление колхоза, то в сельсовет. А чаще всего – в собес. Бабы, с корявыми от непосильной работы руками, с расслоившимися черными ногтями, горбатившиеся не один десяток лет «на строительстве светлого будущего», получали колхозную пенсию в восемь толечко рублей (максимальная – 20!). Мужики до пенсионного возраста вообще доживали редко - военные ранения, водка да жестокие драки на деревенских праздниках загоняли их в гроб раньше срока. Бабы в одиночку ломили с утра до ночи, поднимали детей, и под старость лет оставались в одиночестве в пустых избах (молодежь рвалась в город, подальше от вятской глухомани), с голыми некрашеными полами, со стенами, оклеенными газетами, с окнами без занавесок, где в лучшем случае всей-то мебели – кровать с никелированными шишечками да стол с лавкой. Бабушкина учительская пенсия в 50 рублей для них была недостижимым благом. Бабушка хлопотала и, бывало, добивались повышения пенсии до вожделенной двадцадки. Тогда благодарные клиентки приносили ей кто трехлитровую банку вареного молока, кто шанежки из ржаной муки.
***
Каждую субботу, кроме опрыскивания цветов и уборки, естественно, мы топили баню. После бани моей обязанностью было расчесывать бабушкины волосы. Заплетать их в две косы и укладывать корзиночкой. Сама бабушка сделать этого не могла – после травмы у нее стала плохо двигаться правая рука.Случилась эта история, когда мне было еще лет шесть. Бабушка пошла дотапливать баню. Заслонок и вьюжек в печке не было – приходилось взбираться по лестнице на крышу и закрывать трубу куском толстого железа. Бабушка полезла. Наверху, как она потом говорила, «голову обнесло» (надо понимать, голова закружилась), и она рухнула (в теле была старушка) с двухметровой высоты. Помню, как ее, стонущую, принесли домой, как недели две не вставала она со своей койки за печкой. Фельдшерица Анна Петровна каждый день приходила и ставила уколы.
Я заплетала бабушкины косы лет шесть-семь. В один прекрасный день бабушка сказала:
- Отстриги-ко их, надоели, - и подала мне ножницы, которые накануне были наточены (думается, специально). Все еще толстенная поясная, абсолютно белая коса (сколько я помню, бабушка всегда была седой) шмякнулась на пол. Бабушка удовлетворенно покрутила перед зеркалом головой. Новая прическа ей откровенно понравилась – такие стрижки носили в двадцатых годах, в дни ее молодости. С тех пор раз в полгода я становилась парикмахером.
***
В Бога бабушка не верила. Когда мне было восемь лет, я попала в больницу с приступом аппендицита. После операции меня поместили в палату, где обитали три старушки – три божьих одуванчика. Мы мирно сосуществовали. Бабульки присматривали за мной, а я развлекала их тем, что рассказывала выученные в школе стихи и складывала из пальцев петушков и собачек. Однажды вечером началась гроза. Фиолетовое небо нависло над землей, в почти полной тьме крепкие молнии рвали тучи на куски, раскаты грома слились в непрерывную канонаду, крупный нервный дождь бросал в стекла горсти града. Бабулечки судорожно закрестились и зашептали молитвы. Я такое видела впервые и с удивлением спросила:
- А что вы делаете? Что вы шепчете?
Бабулечки напрочь забыли про лютующую за окном непогоду, застыли с открытыми ртами и зависшими у лбов собранными в щепотья пальцами.
- Молимся! Чтобы Боженька на нас не гневался! – выдохнула старушка, пришедшая в себя первой. – А ты что ли не умеешь? Разве твоя бабушка тебя не научила?
- Нет... А зачем?
Божьи одуванчики опешили. И может быть, поэтому не смогли мне тогда толком объяснить, зачем люди молятся.
После выписки из больницы я рассказала этот случай бабушке. Она долго смеялась и много лет всем знакомым и родственникам пересказывала его как анекдот. Бабушка так и умерла, не перекрестив лба.
***
Дел в деревне всегда хватает. То и дело слышишь:
- Та-э-нь, принеси! Та-э-нь, убери! Та-э-нь, сделай, подай, сходи...
Только чем-нибудь своим займешься и снова:
- Та-э-нь!
Однажды зимой, когда я лежала на своей любимой печи в обнимку с книгой, бабушка сказала:
- Сходи-ка... А что ты делаешь? Читаешь? Ладно, читай, сама сделаю.
Книга для бабушки была святее всего на свете. Лучшей похвалой в ее устах было: «Начитанный». Потом я частенько пользовалась этим нехитрым приемом, чтобы «отскочить» от какого-нибудь поручения.
- Читаю! - а сама рисую, играю в куклы или вообще смотрю в потолок.
***
До ужаса боюсь гусей и коров. Напугана с детства. Было это еще на заре моей памяти. Осень, грязь. Шлепаю в резиновых сапожках и плюшевом красном пальтишке с капюшоном неподалеку дома. Соседский гусак, охранявший супругу с подросшими толстомясыми гусятами, вообразил, что в моем лице его семейству угрожает смертельная опасность и, растопырив крылья и шипя, кинулся на меня. Я – бежать. Да куда там – пятилетний ребенок против матерой птицы. Я завопила так громко, что, несмотря на приличное расстояние, бабушка услышала и, как была в растоптанных тапочках, выскочила в холодную грязь. И вот я болтаюсь под теплым бабушкиным боком, а гусак, зараза, бежит сзади и, подпрыгивая, щиплет меня за тупоносые сапожки.
Однажды пришлось драпать от черной соседской коровы, почему-то не любившей детей. Спасло меня от разъяренного животного чудо в виде здоровущих ворот пристройки (по-вятски – «ограды»), захлопнутых мной перед самым коровьим носом. Чернуха с разгону врезалась в ворота рогами. На серых, выгоревших от солнца, досках до сей поры видны внушительные вмятины.
***
...Давно нет на свете бабушки, давно разрушена школа – только облупленные стены стоят еще посреди одичавшего сада, давным-давно разлетелись по городам и весям старые друзья-приятели и поросло бурьяном мое маленькое королевство, но стоит на минутку закрыть глаза, как плывут навстречу летние ночи моего детства и щекочут лицо тополиным пухом...
2001-2005 г.г.
Сны о детстве
Мне часто снится одно и то же: родное село, июнь, вечер, темно-синий воздух, опустевшая улица, прохладная, припорошенная рыжеватой пылью, земля. И я под черным небом - посреди улицы, посреди села, посреди надвигающейся ночи...
Сон первый: «Для меня нет тебя прекрасней...»
Село на горе - как остров, как корабль, плывущий по волнам густеющего ночного тумана. Там внизу, под белесой поволокой – деревеньки с избами в один ряд, с обсаженными черемухами одворицами, с остатками кривобоких прошлогодних стогов. Ни огонька – деревенские ложатся спать с курами. Черным просвечивают через туман ельники, отливает тусклым оловом река. Пахнет сыростью, тополями. Их три посреди села – старых, дуплистых, посаженных кем-то когда-то на тогдашней околице. Село разрослось с годами, и тополя оказались на границе между новой и старой его частями.
Просторные, крепкие дома выстроились в несколько улиц, образовали «тот конец», в отличие от «нашего» – с вековыми покосившимися строениями под замшело-зелеными тесовыми крышами, с поросшими кудрявым спорышем двориками, с церковью и церковными постройками, приспособленными под школу. В нашем конце села все старое – и дома, и сады, засаженные коряжистыми от времени акациями, яблонями-дичками и кустами сирени, и воздух сам старый-старый. Церковь с высокими, заколоченными окнами, сложенная из нестандартного кирпича на исходе XIX века.
Бабушка рассказывала, что кирпичи для церкви делали прямо здесь – за речкой остались три огомные ямы, из которых брали глину. Весной в этих ямах-бочажинах долго лежал снег, летом стояла холодная темная вода, а осенью по густой водяной черноте плавали рыжие осиновые листья. В послереволюционные годы пытались было разобрать церковь – столько дармового стройматериала зря пропадает – да не смогли, старорежимная кладка была на совесть сделана – взять можно было только взрывчаткой. Так и стоит церковь с обгрызенными углами и покореженными оконными решетками.
Одно время был в ней колхозный ток – в широкие двустворчатые ворота заезжали грузовики, под высокими сводами грохотали веялки, бабы с завязанными платками лицами подгребали к ним зерно. Наточенные и отполированные житом лопаты в косых, клубящихся пылью, струях солнечного света сверкали, словно облитые ртутью. Мы, ребятня, любили лежать в горячем, только что привезенном с поля, зерне, закапываться в него по уши и смотреть вверх – на лики святых, задумчиво глядящих на нас сквозь гроздья пыли, облепившей фрески, на распростертые над нами господни руки, на пухленьких ангелочков.
Роспись в храме делали братья Васнецовы: родина их - село Рябово – от села нашего километров 60-70. От трудов их благородных мало что осталось – глупость человеческая не знает границ. Мальчишки соревновались, кому удасться отбить обломком кирпича кусок штукатурки побольше. Относительно целые росписи остались только на недосягаемой высоте, под самым куполом.
***
Темно впереди, темно позади. Небо без звезд. Тополиные листья тихо-тихо шепчут о чем-то.
Дупло среднего тополя такое большое, что в нем можно сидеть с ногами и смотреть, как снуют вверх и вниз по стволу хлопотливые безобидные клопы-солдатики в черно-красных мундирах. На дне его – посеревший весенний тополиный пух и конфетные бумажки (сидишь там, ешь конфеты с черным хлебом и поглядываешь на всех свысока). «До трех тополей», - говорили мы, клянча у более счастливых сверстников велосипед, и с восторгом крутили педали. До трех тополей провожали друг друга девчоночьи стайки, разбегающиеся с вечернего сеанса кино. У трех тополей, у остановки колхозного автобуса (сначала это был грузовик с брезентовым верхом, громко называемый «грузотакси», управляемый дядей Ваней - самым неторопливым из всех известных в мире шоферов), встречались и расставались люди.
***
Темнота огромной подушкой закрывает пространство. На ощупь она – как легчайший пух. Теплый ветер гонит ее вдоль улицы, вдоль черных домов и кривых штакетников – за мост, за реку, за вытоптанную коровами поскотину – в поля... Июньские пахучие ночи, холодные, белые слои тумана, трава в росе... Бабушка не знала ничего, а может быть, догадывалась, да виду не подавала. А я, чуть засопит старушка на ржавой койке в углу за печкой, тихонечко-тихонечко вылезала из-под одеяла, на цыпочках кралась через горницу на кухню, осторожно открывала тяжелую, собранную из толстых досок, дверь (предварительно смазанную утащенным у мальчишек солидолом, чтоб не скрипнула), и через окно сырого чуланчика выскальзывала в огород. Птичкой - через забор и бегом на опушку леса, который рос сразу за домами. Там, на высоком косогоре, пристроенные на двух рослых соснах, уже качаются качели, визжат девчонки... Жгли костры, пекли картошку... Часа в два ночи пьяная от качельных полетов, так же крадучись, возвращалась домой. Вечером, на крылечке сельского клуба решали, куда едем (лето – пора деревенских праздников, а деревень в округе - не один десяток). Молодые парни работали в колхозе кто - шофером, кто - трактористом, транспортом пользовались бессовестным образом – на всю ночь укатывали с полным кузовом девчонок куда-нибудь километров за 15 на гулянку.
...Это был самый прекрасный сон (я сейчас понимаю!) в моей жизни... Длинная деревенская улица, кривая тропка, мокрая от росы, открытые створки окон, из которых бабульки в нарядных платочках подавали нам стограммовые стопочки с мутной брагой, в которой плавали набрякшие ягоды смородины. Кусты сирени, с блестящими, горько пахнущими листьями. Под фонарем, висящим на столбе, маленькая, утоптанная площадка. Несколько танцующих пар. В сторонке сидит парень из дальнего села – русоволосый крепыш среднего роста, спокойный, улыбчивый. Крутит в загорелых ладонях ветку сирени, покусывает стебелек. Целый вечер смотрю, не могу оторваться – никогда такого не было со мной – ловлю каждое движение, каждое слово... Умоляю мысленно: «Пригласи...».
Наконец, не выдерживаю, подхожу сама. Он улыбается и ведет меня в круг. На подоконнике открытого окна проигрыватель крутит пластинку: Для меня нет тебя прекрасней...». Я чувствую ладонями под прохладой рубашки перелив горячих мускулов, запах чистого тела кружит голову. Как легко и бережно он ведет, как надежны и сильны руки! Как хочется уткнуться лицом в его плечо и слушать, как стучит в груди сердце... Кто может быть счастливее меня, меня, летящей в плавном танце куда-то к звездам? И кто может быть несчастнее меня – заканчивается музыка, его рука соскальзывает по хрусткому шелку платья... Все... Это все...
Но, не дождавшись последних аккордов, чья-то добрая душа передвигает головку звукоснимателя на начало пластинки – и я снова на седьмом небе. Как мало мне надо! Шесть минут счастья... «Как виденье, неуловимо...». Ребята свистнули – пора домой. Разомкнулись руки, осталась в памяти только горечь сирени...
Сон второй: дом
Я под черным небом, в теплой ночи. Впереди - неизвестность. Позади – родной дом.
Самое первое отчетливое воспоминание детства – желтый квадрат солнечного света на чисто вымытом полу кухни. Я стою и ногами в шерстяных, бабушкой вязаных, носочках, пятками пытаюсь встать на выпуклые сучки. Пятки соскальзывают, разъезжаются по крашеному, теплому от солнца, полу.
Сегодня мне исполнилось пять лет. Мне впервые в жизни принесли подарки. Ольга, двоюродная сестра, сунула мне резиновую обезьянку с длинным хвостом в форме крючка и красным мячиком в лапках. За крючок хвоста ее было так удобно вешать куда-нибудь. (И где только эта обезьянка потом не висела – на перекладинах стула, спинке кровати, сучках деревьев.) Такого сюрприза я не ожидала – игрушка резко пискнула в моих жадных ручонках. Все засмеялись. Танька, старшая Ольгина сестра, вякнула противно:
- Татьяна-обезъяна! Я не обиделась – завидует. Потом долго сидела в своем уголочке – устраивала поудобнее нового члена своей игрушечной семьи. Мой день рождения – первое значительное событие, происшедшее в стенах новой избы. «Тане сровнялось пять, когда мы переехали». Старого дома я не помню, запомнились только черные стены без крыши, которые были видны из окон нового, да кухонные, вытертые многолетней ходьбой, половицы с выпуклыми сучками, которые лежали раньше в прежней горнице.
Дом рос и взрослел вместе со мной. У меня прибавлялись года, у дома – пристройки. Я училась, вроде бы умнела, - кладовки, подполье и чердак обрастали утварью и скарбом. Мы ладили: я лазила по торчащим зауголкам, пытаясь заглянуть в приколоченные под крышей скворечники и посчитать желторотых птенцов, на серых боках бревен гвоздиком царапала свои инициалы, взахлеб читала книжки на прожаренной солнцем крыше и слушала рокот дождей на пыльном чердаке. Дом визжал дверными петлями, трещал бревнами в морозы, поскрипывал половицами.
Старая, дореволюционная еще мебель – деревенский антиквариат – тоже имела (каждый предмет) свой характер. Огромный кухонный стол на черных резных бегемочьих ножках был непоколебимо самоуверен, шкаф-горка – элегантен, а бабушкин комод с вечно заедающими ящиками – скуп и заносчив. В ту, первую зиму в новом доме, мы жили без электричества. Маленькая колхозная гидроэлектростанция, построенная на сливе пруда, сгорела. Мать проверяла тетради, брат делал уроки, а бабушка читала газеты, которых выписывала множество, при свете керосиновой лампы. Я смотрела на них сверху, с огромной печки, сбитой из целого куска красной глины, которой наша область славится чуть ли не на всю Россию. Про глину эту, из которой и посуду, и знаменитую дымковскую игрушку лепят, легенды ходят. В нашей семье – своя. Не легенда даже, а быль. Мать моя – учительница русского языка и литературы. Школа – напротив дома, два шага, только дорогу перейти. Зимой и летом проблем не было, а вот весной нам с братом приходилось дежурить, встречать мать с работы. Она у нас росточком всего ничего, толстенькая, ножки коротенькие, как начинала через раскисшую весеннюю дорогу переходить, так и застревала – засасывала ее глина намертво. Кричит оттуда, помогайте, мол. Приходилось бежать с лопатами. Мы-то маленькие еще, легкие. Сначала забирали кипу тетрадок с сочинениями, домашними заданиями, потом мать из глины выдергивали, потом сапоги выкапывали. Дом с приусадебными пристройками, огородом и одичалым, заросшим малиной и крапивой, участком – это целое королевство, в котором хозяйничало только мое воображение. Там по узеньким тропинкам ходили мои невидимые подданные, на заборе, обозревая владения сопредельных королей, скучали дозорные – войны, к счастью, случались редко.
За забором жила семья школьной уборщицы Нюры: муж - беспробудный пьяница и четверо детей (хотя мой брат потом говорил, что детей было шестеро, я запомнила четверых) – дочь и трое парней, гораздых на выдумки, но покладистых и дружелюбных. Даже меня, малолетнюю, брали играть с собой в войну. Вручали мне палку-ружье, с которым я восторженно маршировала и радостно падала в пыльный спорыш, «сраженная» чьим-нибудь метким выстрелом. Домой приходила чумазая, в пятнах крови на лысом черепе (на лето меня брили, как мальчишку) нет, не от ран боевых – от раздавленных комаров. Потом мы залезали к ним на чердак, где неугомонные братья слушали собственноручно собранный радиоприемник и ставили какие-то непонятные мне физические опыты. Чердак был завален невообразимым хламом – тряпьем, железяками, драными журналами. Лучи света крутили пылинки, от крыши сочилось летнее тепло, шумели под мягким ветром тополя...
Сон третий: бабушка
- Та-э-нь! – кричит бабушка с кухни, - глянь-ко, кто там вверх-то (вверх по улице) пошел...
Я подскакиваю с кушетки и гляжу в окно, заставленное множеством горшков с цветами. Говорю бабушке, кто идет и какой (пьяный или нет). Бабушка комментирует полученную от меня информацию, причем комментарии ее всегда носили нелестный характер:
- Э-коть, нализался уже! И когда, паразит, успел?
Или:
- Надо же, трезвый еще, небось ищет, где нажраться. Запри-ко дверь, кабы не приперся...
Подскакивать и смотреть в окно приходилось часто – народу на улице всегда хватало.
Как я ненавидела эти цветы на подоконниках! Каждую субботу растения со всех семи окон нужно было составлять в центр комнаты и опрыскивать (набираешь в рот воду и - фр-р-р), а крупные, глянцевые листья здоровенного, под потолок, фикуса протирать тряпочкой. Мыть подоконники и разносить цветочки на место. А потом драить полы... А день кончается. Не погулять... До сих пор в моем доме нет цветов.
Бабушка моя, Аполлинария Николаевна, и так безмерно уважаемая в округе за счет эксклюзивной комнатной растительности, постоянно повышала свой авторитет. Поводы, правда, для этого большей частью были печальные – похороны.
...На выставленном на середину кухни круглом «венском» стуле сидит женщина - озабоченная, усталая. В который, наверное, раз рассказывает:
- Дак, видать, как шел, так и упал, справа все отнялося – и рука, и нога, обмочился. Манька-соседка, с фермы шла, дак увидела – лежит посередь дороги, мычит че-то. Домой-от принесли, дак пока я за врачихой-то сбегала, а он уже и остывать начал. Дак ить молодой ишшо, в могуте... С 35-го году...
Бабушка, сложив на обтянутых ситцем платья коленях переплетенные узловатые пальцы, кивает головой:
- Дак пил-от как!..
Визитерша охотно соглашается:
- Пил-от пил, дак кто не пьет-то? Да ить и мужик – как не пить-то?..
И после неловкого молчания добавляет неуверенно:
- Дак, Миколавна, дашь ле мне от садов-то твоих («сады» - так называли у нас в деревне комнатные растения!) каких цветочков в гроб-от ему положить? Уж больно баски оне у тя, сады-то...
Купившись на такую неловкую лесть, бабушка подзывает меня и я, по ее указанию, срезаю пушистые веточки аспарагусов и, в зависимости от степени уважения бабушки к умершему, что-нибудь от других цветов. Самым достойным покойникам доставались мохнатые разноцветные колокольчики глициний и розовые соцветия гортензий.
Баба заворачивает цветы в газету, прижимает сверток к затертой до блеска поле телогрейки и торопливо прощается:
- Дай те Бог здоровья, Миколавна!..
***
К бабушке приходили и с другими просьбами:
- Похлопочи, Полинарья Миколавна...
Бабушка доставала тетрадку с листами в линеечку, а чернильница и ручка с перышком (с таким шариком на конце – линии получались толстые – я любила другие перья – «звездочки», которые писали тонко) всегда были у нее на столе, и писала заявления то в суд, то в правление колхоза, то в сельсовет. А чаще всего – в собес. Бабы, с корявыми от непосильной работы руками, с расслоившимися черными ногтями, горбатившиеся не один десяток лет «на строительстве светлого будущего», получали колхозную пенсию в восемь толечко рублей (максимальная – 20!). Мужики до пенсионного возраста вообще доживали редко - военные ранения, водка да жестокие драки на деревенских праздниках загоняли их в гроб раньше срока. Бабы в одиночку ломили с утра до ночи, поднимали детей, и под старость лет оставались в одиночестве в пустых избах (молодежь рвалась в город, подальше от вятской глухомани), с голыми некрашеными полами, со стенами, оклеенными газетами, с окнами без занавесок, где в лучшем случае всей-то мебели – кровать с никелированными шишечками да стол с лавкой. Бабушкина учительская пенсия в 50 рублей для них была недостижимым благом. Бабушка хлопотала и, бывало, добивались повышения пенсии до вожделенной двадцадки. Тогда благодарные клиентки приносили ей кто трехлитровую банку вареного молока, кто шанежки из ржаной муки.
***
Каждую субботу, кроме опрыскивания цветов и уборки, естественно, мы топили баню. После бани моей обязанностью было расчесывать бабушкины волосы. Заплетать их в две косы и укладывать корзиночкой. Сама бабушка сделать этого не могла – после травмы у нее стала плохо двигаться правая рука.Случилась эта история, когда мне было еще лет шесть. Бабушка пошла дотапливать баню. Заслонок и вьюжек в печке не было – приходилось взбираться по лестнице на крышу и закрывать трубу куском толстого железа. Бабушка полезла. Наверху, как она потом говорила, «голову обнесло» (надо понимать, голова закружилась), и она рухнула (в теле была старушка) с двухметровой высоты. Помню, как ее, стонущую, принесли домой, как недели две не вставала она со своей койки за печкой. Фельдшерица Анна Петровна каждый день приходила и ставила уколы.
Я заплетала бабушкины косы лет шесть-семь. В один прекрасный день бабушка сказала:
- Отстриги-ко их, надоели, - и подала мне ножницы, которые накануне были наточены (думается, специально). Все еще толстенная поясная, абсолютно белая коса (сколько я помню, бабушка всегда была седой) шмякнулась на пол. Бабушка удовлетворенно покрутила перед зеркалом головой. Новая прическа ей откровенно понравилась – такие стрижки носили в двадцатых годах, в дни ее молодости. С тех пор раз в полгода я становилась парикмахером.
***
В Бога бабушка не верила. Когда мне было восемь лет, я попала в больницу с приступом аппендицита. После операции меня поместили в палату, где обитали три старушки – три божьих одуванчика. Мы мирно сосуществовали. Бабульки присматривали за мной, а я развлекала их тем, что рассказывала выученные в школе стихи и складывала из пальцев петушков и собачек. Однажды вечером началась гроза. Фиолетовое небо нависло над землей, в почти полной тьме крепкие молнии рвали тучи на куски, раскаты грома слились в непрерывную канонаду, крупный нервный дождь бросал в стекла горсти града. Бабулечки судорожно закрестились и зашептали молитвы. Я такое видела впервые и с удивлением спросила:
- А что вы делаете? Что вы шепчете?
Бабулечки напрочь забыли про лютующую за окном непогоду, застыли с открытыми ртами и зависшими у лбов собранными в щепотья пальцами.
- Молимся! Чтобы Боженька на нас не гневался! – выдохнула старушка, пришедшая в себя первой. – А ты что ли не умеешь? Разве твоя бабушка тебя не научила?
- Нет... А зачем?
Божьи одуванчики опешили. И может быть, поэтому не смогли мне тогда толком объяснить, зачем люди молятся.
После выписки из больницы я рассказала этот случай бабушке. Она долго смеялась и много лет всем знакомым и родственникам пересказывала его как анекдот. Бабушка так и умерла, не перекрестив лба.
***
Дел в деревне всегда хватает. То и дело слышишь:
- Та-э-нь, принеси! Та-э-нь, убери! Та-э-нь, сделай, подай, сходи...
Только чем-нибудь своим займешься и снова:
- Та-э-нь!
Однажды зимой, когда я лежала на своей любимой печи в обнимку с книгой, бабушка сказала:
- Сходи-ка... А что ты делаешь? Читаешь? Ладно, читай, сама сделаю.
Книга для бабушки была святее всего на свете. Лучшей похвалой в ее устах было: «Начитанный». Потом я частенько пользовалась этим нехитрым приемом, чтобы «отскочить» от какого-нибудь поручения.
- Читаю! - а сама рисую, играю в куклы или вообще смотрю в потолок.
***
До ужаса боюсь гусей и коров. Напугана с детства. Было это еще на заре моей памяти. Осень, грязь. Шлепаю в резиновых сапожках и плюшевом красном пальтишке с капюшоном неподалеку дома. Соседский гусак, охранявший супругу с подросшими толстомясыми гусятами, вообразил, что в моем лице его семейству угрожает смертельная опасность и, растопырив крылья и шипя, кинулся на меня. Я – бежать. Да куда там – пятилетний ребенок против матерой птицы. Я завопила так громко, что, несмотря на приличное расстояние, бабушка услышала и, как была в растоптанных тапочках, выскочила в холодную грязь. И вот я болтаюсь под теплым бабушкиным боком, а гусак, зараза, бежит сзади и, подпрыгивая, щиплет меня за тупоносые сапожки.
Однажды пришлось драпать от черной соседской коровы, почему-то не любившей детей. Спасло меня от разъяренного животного чудо в виде здоровущих ворот пристройки (по-вятски – «ограды»), захлопнутых мной перед самым коровьим носом. Чернуха с разгону врезалась в ворота рогами. На серых, выгоревших от солнца, досках до сей поры видны внушительные вмятины.
***
...Давно нет на свете бабушки, давно разрушена школа – только облупленные стены стоят еще посреди одичавшего сада, давным-давно разлетелись по городам и весям старые друзья-приятели и поросло бурьяном мое маленькое королевство, но стоит на минутку закрыть глаза, как плывут навстречу летние ночи моего детства и щекочут лицо тополиным пухом...
2001-2005 г.г.
Обсудить
Читайте также:
Комментарии (0)