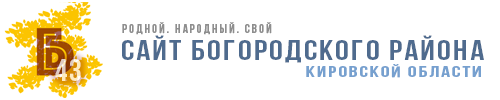Возвращение (отрывок из повести «В одной из вятских деревень»)
Какую-то первобытную, безотчетную тревогу нагнетал ветер предпоследней ночи марта этого безрадостного голодного военного года: выло в трубе, дребезжали вьюшки, тонко и плаксиво позвякивали под порывами тугих струй воздуха, стекла в рамах. Подслеповато мизюкала на столе коптилка.
На полатях, набегавших, нахныкавшись, настрадавшись от непрестанного чувства голода, угомонившись, спали младшие дети – Зина, Тамара, Аркаша, Петя. Самый старший сын, Геннадий, на фронте, и от него давно нет вестей. Писал в последнем треугольничке, что их воздушно-десантную бригаду готовят к переброске, а куда – неизвестно. Всё письмо было измарано черными линиями цензуры, но Федяша, дальний родственник и известный книгочей, все же многое и разобрал под этими черными, как ноябрьская ночь, линиями.
А на мужа, единственного, на всю жизнь венчанного, пришла похоронка – сложил ее Николай головушку на Калининском фронте. Нет больше слез, нет сил, и нет кажется и воли, чтоб жить дальше… А четыре кровиночки на полатях?! Кому их оставишь, на кого взвалишь заботу о них?
Володю, второго сына увезли на военный завод, в Сибирь. А всего-то ему 16 лет, и ростиком он не вышел – выглядит, как десятилетний. Писал: стоит за токарным станком на ящике, чтобы дотянуться до рукояток этого станка. Жалуется, что не высыпается, особенно не выносимы ночные смены: спрятался как-то от мастера в какой-то коморке под топчаном, чтобы хоть немного соснуть, так тот отыскал, вытащил оттуда, чуть не побил. Мог и бы и под суд отдать.
А Валю, старшую дочь вместе с соседкой Глашей, отправили на лесоза-готовки, и с тех пор, как канули – ни пены, ни пузырей. В лесу работка… кто не работал, не объяснишь – только на своей шкуре эту тяжесть можно испытать. А слова, они только слова, даже и самые правдивые и точные.
Непередаваемо тяжелы думы матери в этот вечер, в эту ночь, в эту нескончаемую войну: чем завтра накормить ребятенков – ведь растут! Чем топить печь – дрова на исходе (придется, видно, баню разбирать)… Во что одеть двух, что постарше – помощников? А младшим уж до лета на печи сидеть, до тепла, до травки. Нет слез. Сухи глаза.
Залегла в глубоких сугробах вятская деревушка, единственная и любимая для тех, кто здесь родился и рос, центр средоточия жизни, тепла, родительской заботы и ласки, и безразличная, безвестная для тех, кто никогда в ней не был и не слыхал о ней.
И вот к этой деревушке, в эту самую ночь, теряя последние силы пробивается двадцатилетний паренек, вчерашний солдат. Он уже не нужен фронту, как автомату отстрелянная гильза, как покалеченный снарядами, не подлежащий восстановлению танк.
И вот к этой деревушке, в эту самую ночь, теряя последние силы пробивается двадцатилетний паренек, вчерашний солдат. Он уже не нужен фронту, как автомату отстрелянная гильза, как покалеченный снарядами, не подлежащий восстановлению танк.
Ветер рвет с головы парня ушанку, закручивает вокруг ног длинные полы шинели, мешает идти, залепляет мокрым снегом глаза. Нигде ни огонька, ни просвета, ни звука - со всех сторон, только непроницаемая серая муть. Как страшно сбиться с переметенной наискось плотным снегом, дороги, уйти в сугробы, в сторону – тогда верный конец! Нестерпимо ноет плохо зажив-шая рана на левой ноге, мучительно болит правая рука, которой нет, которая закопана у полевого госпиталя на волжском берегу. Как трудно продвигаться вперед, как непривычно сопротивляться диким порывам ветра, имея только одну руку.
- Ох, мама, мама, помоги – проносится ли в голове, произносят ли эти слова закоченевшие на ветру губы.
- Все, сейчас упаду, не встану больше!
- Ох, мама, мама, помоги – проносится ли в голове, произносят ли эти слова закоченевшие на ветру губы.
- Все, сейчас упаду, не встану больше!
То ли слезы, то ли тающий снег застилает глаза. Как трепещет молодое сердце, как жадно оно хочет жить, гнать по крепкому телу горячую кровь – ведь сердце это так мало еще поработало! Ведь оно еще не видело жизни, не падало в пропасть от безответной любви, не взлетало к звездам от любви взаимной.
- О, мама, мама – помоги!
- О, мама, мама – помоги!
Вдруг впереди и немного слева, мелькнул на долю секунды огонек. Может, он мелькал раньше, да глаза, защищающиеся от режущих ветра и снега, пропустили его краткий проблеск. Крепко зажмурился – наверное, показалось! Вновь открыл глаза с надеждой, но и с боязнью не увидеть этот тончайший лучик к спасению. Благослови тебя, чудо, он горит. Пусть прерывисто, слабо, неровно, но различить его можно, можно идти на него, значит, там изба, а в ней люди. Нет, теперь уж путаница неряшливой снежной пряжи не украдет у него этот свет!
…Потом он не мог вспомнить, как оказался на широкой лавке в маленькой бедной избе, но всегда с благодарностью вспоминал и ту лавку, и то оконце, заткнутое подушкой, и горбатую, низенькую старушку с высохшим темным лицом.
- Слава те, Исусе, очнулся жданой! – проворковала она, когда Геннадий открыл глаза. - А я уж напужалась, думала, не оживеешь.
- Где я? – спросил он севшим голосом, глядя на старуху запавшими глазами, темными и болезненно блестящими.
- Слава те, Исусе, очнулся жданой! – проворковала она, когда Геннадий открыл глаза. - А я уж напужалась, думала, не оживеешь.
- Где я? – спросил он севшим голосом, глядя на старуху запавшими глазами, темными и болезненно блестящими.
Старушка глянула на него со смешанным чувством сострадания, жалости, удивления, поднесла к его губам кружку с каким-то темным, крепко пахнущим питьем:
- Попей, жданой – божоной. В Саламатах ты, слыхал, поди, про экую деревню на Зуевской дороге. Сижу это я, пряду, и вдруг чую, кто-то на мосту скребется. Коптилку взяла, вышла – кому, думаю, старуха понадобилась? А ты лежишь на лесенках, ногами перебираешь, а вызняться-то и не можешь. Я гляжу, что мне не сладить, не затащить тебя в избу – стара уж, да и увечна сызмальства. Сбегала к соседке, разбудила ее – вместе-то мы и втащили тебя да и на лавку определили. Надо бы на печь, да поняли, что не сдюжим. Поглядели мы на тебя – молоденький совсем, в военном, поняли, что домой с войны идешь. Весь уповод хожу, шебунькаю, а ты хоть бы что – спишь и спишь, шибко намаялся.
Старуха отошла к печке погремела там незамысловатой посудой и принесла в блюде паренку. Знакомая с детства еда!
- На, жданой, замори червячка. Спросить хочу, отколь и куды направля-ешься в экую погодицу. Правда, сегодня поутихло.
- Из госпиталя я, бабушка. С Урала домой добираюсь. Поезд пришел в Зуевку, на вокзале там потолкался, поспрашивал – ни попутчиков, ни знако-мых не нашел, вот и решил идти пешком. Уж больно домой хочется.
- На, жданой, замори червячка. Спросить хочу, отколь и куды направля-ешься в экую погодицу. Правда, сегодня поутихло.
- Из госпиталя я, бабушка. С Урала домой добираюсь. Поезд пришел в Зуевку, на вокзале там потолкался, поспрашивал – ни попутчиков, ни знако-мых не нашел, вот и решил идти пешком. Уж больно домой хочется.
Он назвал деревню и район, в котором она находится – это никак не меньше ста километров от станции.
- С самой Зуевки? – воскликнула старуха. - Да в эдакую падеру шел, да после госпиталя! Ну, парнечок, кто-то крепко за тебя молится.
- С самой Зуевки? – воскликнула старуха. - Да в эдакую падеру шел, да после госпиталя! Ну, парнечок, кто-то крепко за тебя молится.
Отлежался он тогда у той доброй старушки и через день, рано утром отправился дальше к родному дому, к семье, к матери, которая и не думала и не гадала, как близко ее старший сын.
Непогода утихомирилась, стало тихо, светло, прозрачно и очень весело на апрельской улице. Вот и увидел родные места… И не надеялся, что будет снова дышать эти воздухом, когда лопнула рядом мина, когда, истекая кро-вью, выходил к санбату, когда ожидал в полубеспамятстве своей очереди в операционную палатку, когда под бомбежкой, по кипящей воде переправля-ли на плоту через Волгу.
И вот они, родные места. С увала на увал петляет расхлябанная, синеватая дорога, ярко светит солнце, так бесстыдно-радостно сияет после метелей, и наплевать ему, что где-то идет война, гибнут люди, молодые и старые, и даже дети. Светит оно, греет тающие сугробы, нежно зазеленевший лес, вих-лястую дорогу, белые веретена берез и одинокую, такую маленькую фигуру среди этого огромного весеннего великолепия.
____
Логеевна сделала все вечерние домашние дела, прилегла рядом с младшим, двухгодовалым Петей, который родился уже после того, как Николай ушел на фронт. Когда прощались, наказывал назвать, если родится парень, в честь деда Петруши.
- Будет еще один петрушонок!
____
Логеевна сделала все вечерние домашние дела, прилегла рядом с младшим, двухгодовалым Петей, который родился уже после того, как Николай ушел на фронт. Когда прощались, наказывал назвать, если родится парень, в честь деда Петруши.
- Будет еще один петрушонок!
В деревне братьев Николая Петровича, его самого, и уже внуков – звали петрушонками.
Долго не идет сон, долго он не может укутать в облегчающее забвение усталую душу. Прошлое, в котором ее Коля был молодым, веселым, крутобровым, очень красивым, обступает со всех сторон…
Вдруг какой-то посторонний звук прервал воспоминания.
Долго не идет сон, долго он не может укутать в облегчающее забвение усталую душу. Прошлое, в котором ее Коля был молодым, веселым, крутобровым, очень красивым, обступает со всех сторон…
Вдруг какой-то посторонний звук прервал воспоминания.
Логеевна прислушалась: да ведь это кто-то стучит в дверь. В такой позд-ний час, в такую темь. Сердце отчего-то покатилось, замерло, потом заби-лось, наверное, с утроенной силой, даже стало трудно дышать. Логеевна, путаясь в одеяле, сбросила его на спящих детей, спустилась с печи. Наощупь нашла коптилку, засветила ее и вышла из избы через мост в ограду, к вход-ной двери во влажную, прохладную темень.
Подошла к дверям, замкнутым на засов – крепкую жердину, просунутую в железные скобы.
- Кто там? – спросила, то ли с испугом, то ли с надеждой.
- Мама, это я, - послышалось из-за дверей.
- О, Господи, Царица небесная, сыночек! – прошептала онемевшими губами Логеевна, вытаскивая засов, длинный и тяжелый.
Справившись, наконец, с засовом, открыла дверь навстречу сыну. Обняла… и больно отдалось в сердце: что-то не то, что-то не так в фигуре ее ши-рокоплечего, статного силача-сына. Господи, да ведь под ее левой рукой, не прощупывается, отсутствует рука сына. Правая рука! Так вот, значит, что…
В неясном, колыхающемся свете коптилки 20-летний ее первенец выглядит на все 30. Худой, под глазами залегли глубокие тени, от крыльев носа к уголкам губ прянули преждевременные морщины. Скорбное, измученное страданиями лицо только отдаленно напоминает ее красивого круглолицего сына, каким он был до армии.
- Ну, вот мама, я и отвоевался подчистую. Теперь уж в никакую часть непригоден, - глухо произнес незнакомым грубым голосом.
Логеевна смотрит на сына с радостью: жив! С болью – изранен, искалечен, без правой руки-работницы. И в этой радости и боли не может понять, что же в облике сына ее тревожит, беспокоит, настораживает. В то же время в напряженном мозгу пролетает: чем накормить кровиночку с дальней дороги, чтоб он сразу почувствовал, что он дома, у родной матушки. Чем угостить? Чем приветить?
- Сыночек, да чего ж ты не сообщил, что едешь? Я уж чего-нибудь и раздобыла для такой встречи. Сглатывая слезы досады, Логеевна достала из загнетки четыре печеных картошины, припасенные на утро для вечно голодных детей, положила на стол перед сыном, налила молока:
- Хлебца-то нет, давно уж забыли какой он на вкус. Да и картошку даю с выдачи, не досыта – на семена пасу. Ладно, хоть Синичка отелилась порань-ше – теленочка отсадим, молочка будет побольше, хорошее подспорье. Доживем до травы.
В окне начало светлеть, вот и ночь, принесшая такую радость, на исходе. Мать внимательно смотрит на сына – в свете зарождающегося дня черты родного лица смягчаются, делаются тоньше, понятнее, ближе.
- На отца-то, сынок, похоронку принесли. Бронь ведь у него была – можно бы было возле семьи остаться, экая орава! Нет, пошел в райком, потребовал, чтоб сняли эту бронь. Совестно, говорил, дома сидеть, когда мальчишки, пороху не нюхавшие, воюют. Ушел, осиротил нас. А я глаза не осушиваю – извелась вся - как робенков вызнимать станем?
Что скажет он ей в утешение? Самому надо как-то применяться к жизни с одной рукой. Тут и с двумя не знаешь, как прожить. Разве только то ска-зать, что не у них одних, не у нее одной такая невосполнимая утрата.
…Не у не одной, не у них одних… Да, конечно, но думается все же о своем – как иначе, так уж устроен человек, что ему его горе кажется самым больным, самым непоправимым, самым большим.
Все это понимает сын, повзрослевший на войне, кажется на целую жизнь.
- Ничего, мама, как-нибудь выкарабкаемся. Видишь, живой, на своих ногах. Буду помогать, как только научусь управляться левухой. Видела бы ты, мама, какие у нас в госпитале были! Да они бы за счастье посчитали быть такими, как я.
Что ответит на эти бодрые слова мать? Мать, которая помнит его полу-метровым, беспомощным, беспорядочно двигающим ручками, ножками, то кряхтящим негромко, то кричащим требовательно, широко открывая трогательный ротик. А сейчас вон как говорит: видела бы ты, мама. А мама не хо-чет видеть неведомых ей парней – что ей до них? Вот он, ее кровиночка, ушел в армию при руках, ногах, широкоплечий, сильный, а сейчас как подбитая птица!
- Ну, ладно, сынок, иди-ка отдыхай: ноженьки сбил, сердце надсадил, а дома и стены помогают, а дома и воздух лечит.
… Лежит вчерашний солдат в родной избе и после всего пережитого не верится, что он снова дома, что все здесь так же, несмотря на то, что он видел и испытал на войне, в этом сотворенном человеком аду.
Родные стены выступают из сумерек, знакомые предметы, на стене портрет отца…
А за стеной весна, апрель.
А до Победы еще далеко.
М. Котомцева
Календари тасуют числа,
Весна ломает зимний склеп,
Как много сложностей и смысла
В переплетениях судеб.
Кудрявою головкой Леля
Застыла тучка в вышине
Отец и мама уцелели
И с ними я на той войне.
И с нами сын мой, внук и внучка,
И драгоценная сестра
И под горой блестящий ключик,
И тополь с краешка двора.
И на проталине апреля
Вплываю в май, как на челне…
… Отец и мама уцелели
И… с ними мы на той войне.
М. Котомцева
Подошла к дверям, замкнутым на засов – крепкую жердину, просунутую в железные скобы.
- Кто там? – спросила, то ли с испугом, то ли с надеждой.
- Мама, это я, - послышалось из-за дверей.
- О, Господи, Царица небесная, сыночек! – прошептала онемевшими губами Логеевна, вытаскивая засов, длинный и тяжелый.
Справившись, наконец, с засовом, открыла дверь навстречу сыну. Обняла… и больно отдалось в сердце: что-то не то, что-то не так в фигуре ее ши-рокоплечего, статного силача-сына. Господи, да ведь под ее левой рукой, не прощупывается, отсутствует рука сына. Правая рука! Так вот, значит, что…
В неясном, колыхающемся свете коптилки 20-летний ее первенец выглядит на все 30. Худой, под глазами залегли глубокие тени, от крыльев носа к уголкам губ прянули преждевременные морщины. Скорбное, измученное страданиями лицо только отдаленно напоминает ее красивого круглолицего сына, каким он был до армии.
- Ну, вот мама, я и отвоевался подчистую. Теперь уж в никакую часть непригоден, - глухо произнес незнакомым грубым голосом.
Логеевна смотрит на сына с радостью: жив! С болью – изранен, искалечен, без правой руки-работницы. И в этой радости и боли не может понять, что же в облике сына ее тревожит, беспокоит, настораживает. В то же время в напряженном мозгу пролетает: чем накормить кровиночку с дальней дороги, чтоб он сразу почувствовал, что он дома, у родной матушки. Чем угостить? Чем приветить?
- Сыночек, да чего ж ты не сообщил, что едешь? Я уж чего-нибудь и раздобыла для такой встречи. Сглатывая слезы досады, Логеевна достала из загнетки четыре печеных картошины, припасенные на утро для вечно голодных детей, положила на стол перед сыном, налила молока:
- Хлебца-то нет, давно уж забыли какой он на вкус. Да и картошку даю с выдачи, не досыта – на семена пасу. Ладно, хоть Синичка отелилась порань-ше – теленочка отсадим, молочка будет побольше, хорошее подспорье. Доживем до травы.
В окне начало светлеть, вот и ночь, принесшая такую радость, на исходе. Мать внимательно смотрит на сына – в свете зарождающегося дня черты родного лица смягчаются, делаются тоньше, понятнее, ближе.
- На отца-то, сынок, похоронку принесли. Бронь ведь у него была – можно бы было возле семьи остаться, экая орава! Нет, пошел в райком, потребовал, чтоб сняли эту бронь. Совестно, говорил, дома сидеть, когда мальчишки, пороху не нюхавшие, воюют. Ушел, осиротил нас. А я глаза не осушиваю – извелась вся - как робенков вызнимать станем?
Что скажет он ей в утешение? Самому надо как-то применяться к жизни с одной рукой. Тут и с двумя не знаешь, как прожить. Разве только то ска-зать, что не у них одних, не у нее одной такая невосполнимая утрата.
…Не у не одной, не у них одних… Да, конечно, но думается все же о своем – как иначе, так уж устроен человек, что ему его горе кажется самым больным, самым непоправимым, самым большим.
Все это понимает сын, повзрослевший на войне, кажется на целую жизнь.
- Ничего, мама, как-нибудь выкарабкаемся. Видишь, живой, на своих ногах. Буду помогать, как только научусь управляться левухой. Видела бы ты, мама, какие у нас в госпитале были! Да они бы за счастье посчитали быть такими, как я.
Что ответит на эти бодрые слова мать? Мать, которая помнит его полу-метровым, беспомощным, беспорядочно двигающим ручками, ножками, то кряхтящим негромко, то кричащим требовательно, широко открывая трогательный ротик. А сейчас вон как говорит: видела бы ты, мама. А мама не хо-чет видеть неведомых ей парней – что ей до них? Вот он, ее кровиночка, ушел в армию при руках, ногах, широкоплечий, сильный, а сейчас как подбитая птица!
- Ну, ладно, сынок, иди-ка отдыхай: ноженьки сбил, сердце надсадил, а дома и стены помогают, а дома и воздух лечит.
… Лежит вчерашний солдат в родной избе и после всего пережитого не верится, что он снова дома, что все здесь так же, несмотря на то, что он видел и испытал на войне, в этом сотворенном человеком аду.
Родные стены выступают из сумерек, знакомые предметы, на стене портрет отца…
А за стеной весна, апрель.
А до Победы еще далеко.
М. Котомцева
Календари тасуют числа,
Весна ломает зимний склеп,
Как много сложностей и смысла
В переплетениях судеб.
Кудрявою головкой Леля
Застыла тучка в вышине
Отец и мама уцелели
И с ними я на той войне.
И с нами сын мой, внук и внучка,
И драгоценная сестра
И под горой блестящий ключик,
И тополь с краешка двора.
И на проталине апреля
Вплываю в май, как на челне…
… Отец и мама уцелели
И… с ними мы на той войне.
М. Котомцева
Обсудить
Читайте также:
Комментарии (0)